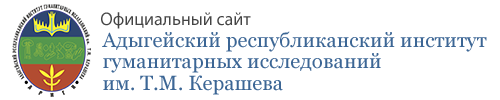НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ЭТИКЕТНАЯ КУЛЬТУРА (По произведениям адыгейских писателей)
Речь идет об этноментальных основах адыгейской литературы, об отражении в ней архетипических элементов «адыгагъэ», «адыгэ хабз». В этом плане анализируются произведения Т. Керашева, Ю. Тлюстена и особенно А. Евтыха. Выявляется писательское видение некоторых черт «адыгагъэ», эстетические и философские размышления об адыгской нравственности в русле общечеловеческих понятий добра и зла
Ключевые слова: национальное и общечеловеческое в этикетной культуре; «адыгагъэ («адыгство»), «адыгэ хабзэ» («адыгский закон»), национальное художественное мировидение, психологический срез характеров.
We are talking about the ethnomental basics of Adygean literature, about the reflection in it of the archetypal elements «адыгагъэ», «Adyghe Khabze». In this respect the works of T.Kerashev, Yu. Tlyusten and especially A. Evtykh are analyzed. Literary vision of some features of the «адыгагъэ», aesthetic and philosophical reflections about the Adyghe morality in the mainstream of human concepts of good and evil are detected.
Keywords: a national and universal in cultural «адыгагъэ («адыгство»), «Adyghe habze» («Adyghe law»), national artistic vision of the world, psychological description of the characters.
Когда мы говорим о национальной форме и национальном содержании отдельно взятой литературы, мы имеем в виду какие-то специфические особенности, отличающие её от других. В числе первых называем язык того или иного народа, которому принадлежит данная литература. Но в мире немало народов, у которых литература зародилась и пишется на других языках. В условиях отсутствия письменности и литература адыгов в России зарождалась и писалась в XIX веке на русском языке. Достаточно вспомнить произведения Ш. Ногмова, С. Хан-Гирея, С. Казы-Гирея, С. Адиль-Гирея, Ю. Ахметукова и других. В других странах проживания, в которых адыги оказались в результате трагической Кавказской войны, адыгская национальная литература пишется на языках тех народов, среди которых они живут. Даже в XX веке, особенно во второй его половине, в условиях широко развитых на родном языке адыгских литератур некоторые писатели писали и пишут одинаково на родном и русском языках или только на русском языке, можно сослаться на произведения А. Евтыха, Т. Адыгова и других. Но все это тема для отдельного разговора и анализа.
Главное же для писателя и всей национальной литературы — это «органическая связь с историческими судьбами народа, определяющая весь исторический путь данной литературы...»1, глубокое знание духовно-нравственных, этнокультурных, психологических основ, определяющих ментальность народа. Для адыгских писателей здесь важную роль играют такие архетипические элементы, как «адыгагъэ» («адыгство»), «адыгэ хабз» («адыгский закон»).
Заманчиво, конечно, сейчас окунуться во взгляды, размышления адыгских ученых Б. Бгажнокова, Р. Ханаху, С. Мафедзева и других о нравственно-философской сути традиционной культуры, адыгского этикета. Оттолкнемся лишь от таких выводов, как «Адыгэ хабзэ — морально-правовой кодекс, то есть общественный институт, в котором соединены в одно целое моральные (прежде всего этикетные) и юридические правила и установления. При этом основополагающее значение имеет тот, для нас совершенно очевидный факт, что идеологической базой синтеза или организационного единства обычного права и этикета является традиционная этика — адыгагъэ. Адыгство придает нормам адыгэ хабзэ характер целенаправленных программ и моделей социального действия2. Или морально-нравственных и этических норм, соотнесенная с общечеловеческими (гуманистическими ценностями и ориентированная на них»3.
Опираясь на такие базовые понятия, Л. Бекизова подчеркивает: «Национальный характер, воссозданный в адыгских литературах в образах героев, аккумулировал в себе созданные вековой культурой традиции, черты, способные передать философию народа, его моральные и эстетические идеалы»4. А.Х. Тимижев, охватывая и литературу адыгского зарубежья, пишет: «Литература адыгов, где бы она ни создавалась, на каком бы языке (адыгском, русском, арабском, турецком, английском, немецком и т. д.) ни писалась, какими художественными методами ни различалась — она рождается адыгской душой и является частью адыгского мира».5 Сердцем этой литературы стала ни с чем не сравнимая адыге хабза, а душой — уникальное художественное мировосприятие адыгов.»5.
Эти выводы высказаны ученым в ходе размышлений в целом об адыгских литературах, но они отражают состояние дел в каждой отдельно взятой литературе, в том числе и в адыгейской. Трудно понять произведения Т. Керашева, А. Хаткова, М. Паранука, И. Цея, Ц. Теучежа, Ю. Тлюстена, А. Евтыха и более молодых И. Машбаша, Х. Беретаря, Н. Куека, Ю. Чуяко да и всех писателей без «адыгагъэ» и «адыгэ хабзэ». Именно они способствуют познанию человека как главного объекта художественной культуры адыгов.
Этим можно объяснить акцентированное внимание некоторых писателей проявлению адыгагъэ и соблюдению адыгэ хабзэ отдельными своими героями.
Нетрудно убедиться в этом и по произведениям Т. Керашева, на исторические темы и посвященным новой жизни XX века. Адыгская этика полностью лежит в основе встречи народного героя Хатхе Мхамета в семье Анчока и на свадьбе в другой семье в этом же шапсугском ауле в повести «Дочь шапсугов». А поведение молодой девушки Гулез в этом плане уникально. С такими сценами встречаешься и в других произведениях Т. Керашева «Абрек», «Месть табунщика», «Одинокий всадник». А роман «Шамбуль» («Дорога к счастью») полностью во власти нравственно-философских размышлений автора и ряда героев о народной этикетной культуре в парадигме старое-новое. Рисуя картины обычаев и традиций народа, отношений между мужчинами и женщинами, пожилыми и молодыми, их поведение в общественных местах, автор часто сосредотачивает внимание на отживших и устаревших сторонах в соотношении с тем, что несло с собой новое время. Достаточно вспомнить главы романы «Мать и дочь», «История жизни одной женщины», «Суд старших», «О чем плакала скрипка». И в других произведениях о современности, о жизни колхозной деревни, особенно в романе «Куко», писатель через взгляды молодых девушек — колхозницы Куко и приехавшей в аул работницы газеты Тамары выступает как исследователь соотношений прогрессивных и обветшалых норм поведения в адыгской культуре в целом.
Своеобразными штрихами рисует Ю. Тлюстен отношения между молодыми и пожилыми людьми в своих произведениях, особенно в последней книге «Сказы Совча-са». Чуть ли не каждые рассказ, новелла, быль сотканы из картин народной жизни и этикетной культуры. Достаточно сослаться лишь на одно небольшое произведение под названием «Отец, дай закурить». Встречный юнец просит у почтенного старика закурить. Тот достал свой кисет. Юноша закурил и пошел своей дорогой. Старик окликнул его, вернул и отдал и кисет, и спички, а на недоуменный вопрос молодого человека ответил: «Я уже не хочу. С сегодняшнего дня бросаю курить. С табаком, который уровнял нас с тобой, я расстаюсь на всю жизнь». Тут, как говориться, комментарии излишни.
Среди адыгейских писателей, обращавшихся к народной этикетной культуре особняком стоит А. Евтых, который в сферу своих художественно-эстетических, философских размышлений открыто, оголенно, иногда противоречиво вводил как образ, как объект исследования через характеры героев этот феномен «адыгагъэ».
Наиболее остро и выпукло это проявилось в нашумевшем в середине 6о-х годов прошлого века романе «Шуба из двенадцати овчин», особенно в первой его части «Улица во всю ее длину». А. Евтых резко и вопреки существующей идеологии и методу социалистического реализма очертил в художественных картинах целый клубок социально-экономических и общественно-хозяйственных проблем колхозной деревни, на положительном показе которых держался так называемый колхозный роман. Важной составной частью этого конфликтного узла была и духовно-нравственная жизнь адыгейской деревни и особенно проявление этих законов адыгского этикета в характерах героев. И всесоюзная критика обратила внимание на эту сторону. Н. Отаров считал, что роман А. Евтыха «О настоящем адыгства, о человечности»6. А. Бучис в свою очередь отмечал, что «в глубинном оптимизме, мудрости адыгов часто ищет романист опоры в своем споре с теми, кто не дорожит интересами народа...», стремится «связать социальные проблемы с национальной почвой, своеобразием адыгейского быта, характера, обычаев»7.
Критики правы. Романы задуманы так. Но реализуя этот замысел, автор нередко насыщал повествование негативными сгустками из духовной жизни общества, часто ломал некоторые привычные схемы и стереотипы в показе национальнонравственного бытия, особенно «адыгагъэ» («адыгство»), стремился обнажить некоторые его явные и скрытые пороки, прибегал к нетрадиционным толкованиям отдельных черт национального характера. А. Кешоков указывал даже «на досадную перегруженность повествования этнографическим материалом»8.
Но речь шла о выработанном народом тысячелетиями своде неписанных норм и законов, который регулировал поведение адыга в любой ситуации — об «адыгагъэ»(«адыгстве»). И такие герои романа из семьи Шалаховых, как председатель колхоза Хатажук, его отец старец Ибрагим, его сын Эдик — Хаджимурат, да еще и завхоз колхоза Нашхо часто использовали этот адыгский этикет в угоду себе, растягивая его как резинку и прикрывая им свои любые грязные дела. Это и серьезные просчеты в руководстве колхозом, и воровство, и отношение к женщинам и девушкам, и многое другое.
Для автора не менее важна была и другая сторона этого вопроса: раскрыть характер, психологию, внутренний мир людей, которые сами, внутренне протестуя против искажения и нарушения святых заповедей адыгского этикета, открыто не выступают против тех, кто опошляет их. В этой связи важен эпизод с участием простого крестьянского парня, колхозного плотника Петки Калокова, который готов пропустить всех адыгов через триер и уверен, что половина будет сбойня, много пойдет на второй сорт. Сказано, конечно, резко, неприятно, в чем-то даже утрировано. Но во многом он прав, даже применительно к сегодняшнему состоянию наших адыгагъэ, адыгэ хабзэ, адыгейского языка. Неслучайно все это привлекает внимание не только критики, но и ученых — знатоков адыгэ хабзэ. Доктор исторических наук М. Меретуков писал, что «судя по книге А. Евтых основательно владел корнями адыгейского этикета и поэтому с болью писал о его потерях»9. Другой ученый профессор, доктор филологии А. Схаляхо подчеркивал, что «Евтых откровенно раскрывает то грязное-мерзкое, что мы должны оставить в прошлом, от чего надо очиститься. В художественном исследовании жизни это было высотой, взятой адыгейской литературой»10.
Проблемы эти никогда не переставали волновать А. Евтыха. Они с новой силой проявились и в романе «Воз белого камня», где понятие «адыгагъэ» переносится в сферу больших социальных, политических событий в переломную революционную эпоху. И все это он стремится связать с конкретной национальной почвой, с особенностями адыгской деревенской действительности. Внимание его опять приковано к «адыгагъэ», «адыгэ хабзэ», к той сложной трансформации внутреннего мира таких героев, как Мос (по прозвищу Куапце) и хаджи Калоков. Революция, новая социальная жизнь до предела обострили эти святые для них понятия, к тому же в тесной связи с мусульманской религиозной философией и с такими общечеловеческими понятиями, как гуманизм, добро и зло. Одно дело, что такие, как Чап, Хануко, Мишеост стремятся прикрывать свои неблаговидные дела, насилие, грабеж, убийства этим святым «адыгагъэ». Другое дело внутренние и открытые дискуссии и споры Моса Жуко и Хаджи Калокова по поводу адыгагъэ.
В начале их объединяли общность гуманных целей, стремление к равенству и справедливости, сохранению здоровых основ адыгагъэ. Но в выборе путей достижения этих целей они разошлись, их отношения усложнились. Хаджи в сущности ищет этой же справедливости, за которую борется Куапце, но хочет решить эту проблему в рамках религии, неписанных, но твердо устоявшихся законов «адыгэ хабзэ». Поэтому он придерживался девиза: адыг не должен идти против адыга. Исходя из этого, он ставит рядом на одну доску Моса Жуко и насильника и бандита Мишеоста. Обращаясь к Мосу, он говорит: «И ты адыг, и он адыг». Хаджи еще до конца не осмысливает, что они кровные, классовые враги.
Из авторской реплики понятно, что «Куапце сам до конца не понимал, какой будет новая власть.., но душой был открыт перед ней»11. Потому что она боролась за свободу, равенство, справедливость. В этом плане он ведет откровенный разговор с Калоковым, веря в его честность, разумность: «Мир меняется. Адыги всегда ценили человечность, а раз так, то новая власть не подавляет ее, а поднимает выше. Больше половины из нас не считались людьми, богатство было мерой человечности. Не богат — дурак, богат — умен, возвышен, с тобой считаются. Новая власть переворачивает все это...»11.
Мучительно больно, но и Хаджи пришел к выводу, что Чап и Мишеост пытаются прикрывать свои грязные и преступные дела этим священным адыгагъэ, хватаясь за него как за спасительную соломинку. Характерен в этом отношении разговор с Мишеостом, который, преследуемый органами власти, пришел к Хаджи, надеясь, что он спрячет его. Калоков, подозревавший Мишеоста в убийстве Моса, отказывает ему. В ответ Мишеост пытается укорять Хаджи: «Всю жизнь ты говоришь об адыгах... И я адыг, Хаджи!»11. Калоков заявляет ему прямо, что из-за таких насильников, как он, не будет обманывать ни власть, ни аул.., что ему пришлось пересмотреть свое отношение к таким людям, как Мишеост, Чап и им подобным.
Все эти проблемы еще более обостренно поставлены А. Евтыхом в романах «Баржа» и «Бычья кровь». Они более всего заметны, когда автор рисует образы старика Бачмиза Аладжа, считающего себя предводителем адыгского общества во всей округе, его сына офицера Мурзабека, генерала Хана Гирея и других.
Образы Гирея и Бачмиза интересны не только тем, что они, как и хаджи Исмель, стоят в эпицентре социального противостояния. Автор чаще всего раскрывает их через проявление в их действиях, поступках, размышлениях этнокультурного феномена адыгагъэ (адыгство) в условиях крутого перелома привычного уклада жизни, где они являлись хозяевами. Именно Гирей и Бачмиз больше всех обращаются к этим заповедям адыгской мудрости, когда хотят приспособить их к деяниям, которые часто несовместимы с «адыгагъэ». Этим они живо напоминают Шалаховых — отца Ибрагима и сына Хатажука из дилогии «Шуба из двенадцати овчин».
Именно в этом контексте наиболее полно проявляется психологический срез характера Гирея как личности. Да, он белогвардейский генерал, люто ненавидящий большевиков и делающий все для их уничтожения. Но он и одаренный человек, собирающий под свои знамена немало людей, создавший «дикую дивизию». Он умеет анализировать сложную ситуацию, если нужно, приспосабливаться к ней или приспособить ее к себе, к своим целям, включая и адыгство.
В этой своей главной роли он самоуверен и коварен. Обговаривая вопросы подготовки войска с И. Щербиной, он заявляет: «Когда мы с вами все это наладим, увидите, у моего порога всю адыгскую поросль! Проситься в мои седла»12. Позже он будет ловко манипулировать понятиями этих молодых людей о чести и достоинстве адыга. Выступая перед ними, он сказал немало слов, которые задели бы самолюбие любого адыга, и в конце добавил: «У нас свое знамя, своя идея, и мы этому присягаем и, когда понадобится, настанет этот час, отдадим свою кровь, свою жизнь! Мы мужчины, и не всякие, мы — адыги! Мера нам и высота: мы адыги»12. Учитывая адыгскую ментальность той поры и святость тех заповедей, которыми оперировал Гирей, нетрудно предугадать последствия таких слов. Ему верили, и он делал многое, чтобы поверили. Кроме того, что не скупился на слова, каждый раз, возвращаясь в аул, делал небольшие подарки (точнее: подачки) старухам, старикам: халву, бублики, орехи, сахарные головки, спешил в мечеть.
Но он был столь же лицемерен, как и коварен и высокомерен. Выйдя к толпе, собравшейся в защиту своего предводителя хаджи Исмеля, пойманного его сподвижниками, он произносит речь, убедившую стариков: «Я — кто? — спросил он вдруг. Все притихли. — А тот, кто день и ночь печется о своем народе. Малого числа, но золотого сияния! Сам я что я значу, если не понимаю его мыслей, его чаяний? Каждым моим шагом управляете вы, и слушаюсь вас, отдаю по вашей воле приказание освободить Исмеля Малаха с разрешением вернуться ему домой и жить там мирной жизнью»13. А вслед за тачанкой, увезшей хаджи Исмеля, он посылает группу своих головорезов во главе с Мурзабеком Аладжем, которые убивают Исмеля и ни в чем неповинных его спутников. Всю вину за это злодеяние сваливает на жителей соседнего хутора Красный Кут.
Старый Аладж, считающий себя знатоком, толкователем и хранителем адыгэ хаб-зэ, чистым и честным перед богом и перед людьми, знал о кровавой задумке Гирея.
И уезжая к себе домой от Гирея, он также знал, что следом привезут мертвого Исме-ля и лицемерно думал, что будет хоронить его. Только Хатрак Баг, Дмитрий Марьян не дали ему это сделать, похоронив своего соратника со всеми почестями.
Для таких людей, как хаджи Исмель, Хатрак Баг адыгагъэ — это справедливость, национальная гордость, человечность, честь и совесть, мужское достоинство. Они много не философствуют по поводу адыгагъэ, а выполняют его заповеди, если даже им это стоит жизни. Вспомнить хотя бы начало первого романа «Баржа», когда Ха-трака Бага заставляли «ломать шапку», показав тем самым свое почтение высокому начальнику. Хатраку это стоило нескольких дней тюрьмы, но он знает как почитать заслужившего это человека, в этот свод не входит снимать шапку, шапка для адыга сродни голове.
Главная идея автора заключается в том, что адыгагъэ — это высокая нравственность и никакие преступления, унижение человеческого достоинства, осквернение женщины, воровство, хищения, насилие и другие неблаговидные дела не могут и не должны прикрываться и оправдываться этим святым понятием национального этикета. Все это наносит огромный урон нравственному здоровью общества.
В последней посмертно изданной книге «Разрыв сердца», состоящей из двух повестей — «Сожжённая картина» и «Я — кенгуру», А. Евтых вновь обращается к некоторым щепетильным сторонам морально-нравственной жизни адыгов, особенно к отношениям между мужчиной и женщиной, мужем и женой. В первой повести это связано с деяниями художников Бзекуха Хамзата Чирашевича и Галима Кеша. У Бзекуха неодолимое желание нарисовать голую женщину и показать красоту женского тела.
Адыги понимали и ценили красоту девушки, женщины. Но как и все горские народы, не выставляли напоказ это свое понимание, не подчеркивали интимносексуальную сторону своей жизни. Открытое тело женщины, даже мужчины перед женщиной было каким-то национально-заповедным, и во все это народ вкладывал свой воспитательный смысл. Даже национальный костюм — наша гордость и сегодня — скроен таким образом, что он закрывает все тело, обнажая только лицо. Это не прихоть одного или десятков, не делается по указанию сверху или старейшины рода. Некоторые традиции, обычаи, элементы национальной традиционной культуры могут не вписаться в более общие понятия и оценки. Но может ли национальный художник быть абсолютно свободным от всего этого? Конечно же, бывалый, опытный художник Хамзат Чирашевич понимал, что обнаженное тело женщины вызовет острую неприязнь адыгского общества. Тем не менее осуществил свою давнюю мечту, но сердце не выдержало острую внутреннюю борьбу чувств, и умер он у сожженной картины.
Об открытости, гласности, общественном достоянии взаимоотношений между мужем и женой заставляют думать и некоторые страницы второй повести «Я — кенгуру», носящей чисто автобиографический характер. Через все повествование проходит одна сквозная линия, которая связана с Валентиной Косинской — женой и верной спутницей, с которой прожил более 6о лет, и ушла она из жизни на год раньше, чем он. А. Евтых воссоздает ее образ, черты ее характера, доброту и человечность, заботливое отношение к родным, близким, друзьям, умение находить общий язык со всеми. Таких деталей, постоянно возвращающих читателя к Вале, немало. И каждый раз ласковые слова: «Моя Валя..., моя маленькая Валя.., нежное, светлое, утонченное создание.., милая, прекрасная женщина» и т. д.
Восхищаясь глубиной и красотой этих чувств, мастерством их передачи, задаешься вопросом: что заставило его на склоне лет, на исходе жизни вот так эмоциональновзволнованно, открыто, оголенно писать об этом глубоко внутреннем, сугубо личном, интимном, относящемся только к ним обоим и выражавшимся в течение всей жизни только намеком, взглядом, настроением, заботой друг о друге, увлечением одним и тем же делом? Не сродни ли все это с тем, над чем бился художник Бзекух в «Сожженной картине»?
Все это непраздные вопросы. А. Евтых хорошо знал выработанные тысячелетиями нормы бытовой и нравственной жизни адыгов, их обычаи и традиции. В редкой его книге они не стали предметом пристального, острого внимания. Многие из них прошли определенную трансформацию, особенно -начиная с конца прошлого века, большое влияние оказала так называемая массовая культура, что заставляет серьезно задумываться над проблемами модернизации культуры, особенно духовной.
Возвращаясь к вопросу о том, что все-таки заставило автора переходить через все эти условности, возможно стоит обратиться к фразе, в сердцах им сказанной: «Я был счастлив в жизни — и шло это от Вали»14. Может быть. А в целом трудно дать однозначный ответ на все эти вопросы. Это один из характерных признаков сложной, иногда противоречивой художнической натуры Аскера Евтыха.
Есть в его воспоминаниях и другие места — иногда мимоходом оброненная фраза, а нередко его раздумья по поводу тех или иных фактов и явлений, которые явно тянут на дискуссию, на размышления. По поводу одного факта он может обобщить: «И хорошо знаю по себе, по другим: мы, адыги, вовсе не трудоголики...»14. Или такая реплика: «Когда задумываюсь над нашими национальными проблемами, мучает меня опять же наша национальная черта: мы великие ленивцы, у нас нет опыта и традиций напряженной интеллектуальной жизни, а то, что было, все шло к нам через кунацкие или через религиозные собрания, иного общения не было.»14. Конечно же, в условиях отсутствия письменности интеллектуальный, умственный труд не мог быть профессиональным занятием. Но были же и великие мыслители, и великие мастера, было и общение, многого стоили и целые своеобразные институты-хачещи, существовали и другие формы общения: хасэ, игрища и т. д. Сам же автор, опровергая себя, на тех же страницах пишет: «А еще адыги умудрялись во всех доступных местах, в долинах, на равнинах, на горных откосах, в самих лесах насадить, вырастить своим неустанным беспрерывным уходом и яблоки, и черешни, и сливы, и каштаны, и тот же знаменитый орешник.»14, «глаза его (адыга — Р. М.) обращены к земле, вспахать, засеять.»14, «интеллигентные по духу и мышлению, — садовод ли, бахчевик, виноградарь или чеботарь, среди таких людей. очень много интеллигентных людей.»14.
В оценке его воспоминаний можно уйти от всех этих, казалось бы, мелочей. Но все они часть духовно-эстетической жизни писателя, выражают его симпатии и антипатии, его взгляды на прошлое и настоящее. Словом, из всего этого и вырастает образ, характер самого Аскера Евтыха — человека, героя и повествователя.
Литература
1.Литературный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — С. 752.
2.Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. — Нальчик, 1999. — С. 96.
3.Ханаху РА. Традиционная культура Северного Кавказа: вызовы времени. — Ростов-на-Дону, 2011. — С. 192.
4.Бекизова Л А. Литература в потоке времени. — Черкесск, 2008. — С. 28-29.
5.Тимижев Х.Т. Историческая поэтика и стилевые особенности литературы адыгского зарубежья. — Нальчик, 2006. — С. 69-70.
6.Отаров Н.Т. Твоя родина // «Новый мир». — №5, 1956. — С.125.
7.БучисА. Над картой критики // «Дружба народов». — №63, 1967. — С. 243.
8.Кешоков А. Облик улицы // Собрание сочинений. В 4-х томах. — Т. 3. — М., 1981. — С.588.
9.Мэрэтыкъо М. Тишэн-хабзэхэр игупшысэ шьхьа1эх // Гъэз. «Социалистическэ Адыгей», июным и 19 1990-рэ ильэс.
10.Шъхьэлэхъо А. Зэ[ук[эгьухэр, гукъэк[ыжьхэр // Гьэз. «Адыгэ макъ», сентябрэм и23-рэ 1995-рэ ильэс.
11.ЕутыхА. Ц1ыфым илъэуж. — Мыекьуапэ, 1971. — Н. 152, 185.
12.Евтых А. Баржа. — М., 1983. — С. 57, 224.
13.Евтых А. Бычья кровь. — Майкоп, 1993. — С. 265.
14.Евтых А. Разрыв сердца. — М., 2000. — С. 153.
Мамий Р.Г.
Ключевые слова: национальное и общечеловеческое в этикетной культуре; «адыгагъэ («адыгство»), «адыгэ хабзэ» («адыгский закон»), национальное художественное мировидение, психологический срез характеров.
We are talking about the ethnomental basics of Adygean literature, about the reflection in it of the archetypal elements «адыгагъэ», «Adyghe Khabze». In this respect the works of T.Kerashev, Yu. Tlyusten and especially A. Evtykh are analyzed. Literary vision of some features of the «адыгагъэ», aesthetic and philosophical reflections about the Adyghe morality in the mainstream of human concepts of good and evil are detected.
Keywords: a national and universal in cultural «адыгагъэ («адыгство»), «Adyghe habze» («Adyghe law»), national artistic vision of the world, psychological description of the characters.
Когда мы говорим о национальной форме и национальном содержании отдельно взятой литературы, мы имеем в виду какие-то специфические особенности, отличающие её от других. В числе первых называем язык того или иного народа, которому принадлежит данная литература. Но в мире немало народов, у которых литература зародилась и пишется на других языках. В условиях отсутствия письменности и литература адыгов в России зарождалась и писалась в XIX веке на русском языке. Достаточно вспомнить произведения Ш. Ногмова, С. Хан-Гирея, С. Казы-Гирея, С. Адиль-Гирея, Ю. Ахметукова и других. В других странах проживания, в которых адыги оказались в результате трагической Кавказской войны, адыгская национальная литература пишется на языках тех народов, среди которых они живут. Даже в XX веке, особенно во второй его половине, в условиях широко развитых на родном языке адыгских литератур некоторые писатели писали и пишут одинаково на родном и русском языках или только на русском языке, можно сослаться на произведения А. Евтыха, Т. Адыгова и других. Но все это тема для отдельного разговора и анализа.
Главное же для писателя и всей национальной литературы — это «органическая связь с историческими судьбами народа, определяющая весь исторический путь данной литературы...»1, глубокое знание духовно-нравственных, этнокультурных, психологических основ, определяющих ментальность народа. Для адыгских писателей здесь важную роль играют такие архетипические элементы, как «адыгагъэ» («адыгство»), «адыгэ хабз» («адыгский закон»).
Заманчиво, конечно, сейчас окунуться во взгляды, размышления адыгских ученых Б. Бгажнокова, Р. Ханаху, С. Мафедзева и других о нравственно-философской сути традиционной культуры, адыгского этикета. Оттолкнемся лишь от таких выводов, как «Адыгэ хабзэ — морально-правовой кодекс, то есть общественный институт, в котором соединены в одно целое моральные (прежде всего этикетные) и юридические правила и установления. При этом основополагающее значение имеет тот, для нас совершенно очевидный факт, что идеологической базой синтеза или организационного единства обычного права и этикета является традиционная этика — адыгагъэ. Адыгство придает нормам адыгэ хабзэ характер целенаправленных программ и моделей социального действия2. Или морально-нравственных и этических норм, соотнесенная с общечеловеческими (гуманистическими ценностями и ориентированная на них»3.
Опираясь на такие базовые понятия, Л. Бекизова подчеркивает: «Национальный характер, воссозданный в адыгских литературах в образах героев, аккумулировал в себе созданные вековой культурой традиции, черты, способные передать философию народа, его моральные и эстетические идеалы»4. А.Х. Тимижев, охватывая и литературу адыгского зарубежья, пишет: «Литература адыгов, где бы она ни создавалась, на каком бы языке (адыгском, русском, арабском, турецком, английском, немецком и т. д.) ни писалась, какими художественными методами ни различалась — она рождается адыгской душой и является частью адыгского мира».5 Сердцем этой литературы стала ни с чем не сравнимая адыге хабза, а душой — уникальное художественное мировосприятие адыгов.»5.
Эти выводы высказаны ученым в ходе размышлений в целом об адыгских литературах, но они отражают состояние дел в каждой отдельно взятой литературе, в том числе и в адыгейской. Трудно понять произведения Т. Керашева, А. Хаткова, М. Паранука, И. Цея, Ц. Теучежа, Ю. Тлюстена, А. Евтыха и более молодых И. Машбаша, Х. Беретаря, Н. Куека, Ю. Чуяко да и всех писателей без «адыгагъэ» и «адыгэ хабзэ». Именно они способствуют познанию человека как главного объекта художественной культуры адыгов.
Этим можно объяснить акцентированное внимание некоторых писателей проявлению адыгагъэ и соблюдению адыгэ хабзэ отдельными своими героями.
Нетрудно убедиться в этом и по произведениям Т. Керашева, на исторические темы и посвященным новой жизни XX века. Адыгская этика полностью лежит в основе встречи народного героя Хатхе Мхамета в семье Анчока и на свадьбе в другой семье в этом же шапсугском ауле в повести «Дочь шапсугов». А поведение молодой девушки Гулез в этом плане уникально. С такими сценами встречаешься и в других произведениях Т. Керашева «Абрек», «Месть табунщика», «Одинокий всадник». А роман «Шамбуль» («Дорога к счастью») полностью во власти нравственно-философских размышлений автора и ряда героев о народной этикетной культуре в парадигме старое-новое. Рисуя картины обычаев и традиций народа, отношений между мужчинами и женщинами, пожилыми и молодыми, их поведение в общественных местах, автор часто сосредотачивает внимание на отживших и устаревших сторонах в соотношении с тем, что несло с собой новое время. Достаточно вспомнить главы романы «Мать и дочь», «История жизни одной женщины», «Суд старших», «О чем плакала скрипка». И в других произведениях о современности, о жизни колхозной деревни, особенно в романе «Куко», писатель через взгляды молодых девушек — колхозницы Куко и приехавшей в аул работницы газеты Тамары выступает как исследователь соотношений прогрессивных и обветшалых норм поведения в адыгской культуре в целом.
Своеобразными штрихами рисует Ю. Тлюстен отношения между молодыми и пожилыми людьми в своих произведениях, особенно в последней книге «Сказы Совча-са». Чуть ли не каждые рассказ, новелла, быль сотканы из картин народной жизни и этикетной культуры. Достаточно сослаться лишь на одно небольшое произведение под названием «Отец, дай закурить». Встречный юнец просит у почтенного старика закурить. Тот достал свой кисет. Юноша закурил и пошел своей дорогой. Старик окликнул его, вернул и отдал и кисет, и спички, а на недоуменный вопрос молодого человека ответил: «Я уже не хочу. С сегодняшнего дня бросаю курить. С табаком, который уровнял нас с тобой, я расстаюсь на всю жизнь». Тут, как говориться, комментарии излишни.
Среди адыгейских писателей, обращавшихся к народной этикетной культуре особняком стоит А. Евтых, который в сферу своих художественно-эстетических, философских размышлений открыто, оголенно, иногда противоречиво вводил как образ, как объект исследования через характеры героев этот феномен «адыгагъэ».
Наиболее остро и выпукло это проявилось в нашумевшем в середине 6о-х годов прошлого века романе «Шуба из двенадцати овчин», особенно в первой его части «Улица во всю ее длину». А. Евтых резко и вопреки существующей идеологии и методу социалистического реализма очертил в художественных картинах целый клубок социально-экономических и общественно-хозяйственных проблем колхозной деревни, на положительном показе которых держался так называемый колхозный роман. Важной составной частью этого конфликтного узла была и духовно-нравственная жизнь адыгейской деревни и особенно проявление этих законов адыгского этикета в характерах героев. И всесоюзная критика обратила внимание на эту сторону. Н. Отаров считал, что роман А. Евтыха «О настоящем адыгства, о человечности»6. А. Бучис в свою очередь отмечал, что «в глубинном оптимизме, мудрости адыгов часто ищет романист опоры в своем споре с теми, кто не дорожит интересами народа...», стремится «связать социальные проблемы с национальной почвой, своеобразием адыгейского быта, характера, обычаев»7.
Критики правы. Романы задуманы так. Но реализуя этот замысел, автор нередко насыщал повествование негативными сгустками из духовной жизни общества, часто ломал некоторые привычные схемы и стереотипы в показе национальнонравственного бытия, особенно «адыгагъэ» («адыгство»), стремился обнажить некоторые его явные и скрытые пороки, прибегал к нетрадиционным толкованиям отдельных черт национального характера. А. Кешоков указывал даже «на досадную перегруженность повествования этнографическим материалом»8.
Но речь шла о выработанном народом тысячелетиями своде неписанных норм и законов, который регулировал поведение адыга в любой ситуации — об «адыгагъэ»(«адыгстве»). И такие герои романа из семьи Шалаховых, как председатель колхоза Хатажук, его отец старец Ибрагим, его сын Эдик — Хаджимурат, да еще и завхоз колхоза Нашхо часто использовали этот адыгский этикет в угоду себе, растягивая его как резинку и прикрывая им свои любые грязные дела. Это и серьезные просчеты в руководстве колхозом, и воровство, и отношение к женщинам и девушкам, и многое другое.
Для автора не менее важна была и другая сторона этого вопроса: раскрыть характер, психологию, внутренний мир людей, которые сами, внутренне протестуя против искажения и нарушения святых заповедей адыгского этикета, открыто не выступают против тех, кто опошляет их. В этой связи важен эпизод с участием простого крестьянского парня, колхозного плотника Петки Калокова, который готов пропустить всех адыгов через триер и уверен, что половина будет сбойня, много пойдет на второй сорт. Сказано, конечно, резко, неприятно, в чем-то даже утрировано. Но во многом он прав, даже применительно к сегодняшнему состоянию наших адыгагъэ, адыгэ хабзэ, адыгейского языка. Неслучайно все это привлекает внимание не только критики, но и ученых — знатоков адыгэ хабзэ. Доктор исторических наук М. Меретуков писал, что «судя по книге А. Евтых основательно владел корнями адыгейского этикета и поэтому с болью писал о его потерях»9. Другой ученый профессор, доктор филологии А. Схаляхо подчеркивал, что «Евтых откровенно раскрывает то грязное-мерзкое, что мы должны оставить в прошлом, от чего надо очиститься. В художественном исследовании жизни это было высотой, взятой адыгейской литературой»10.
Проблемы эти никогда не переставали волновать А. Евтыха. Они с новой силой проявились и в романе «Воз белого камня», где понятие «адыгагъэ» переносится в сферу больших социальных, политических событий в переломную революционную эпоху. И все это он стремится связать с конкретной национальной почвой, с особенностями адыгской деревенской действительности. Внимание его опять приковано к «адыгагъэ», «адыгэ хабзэ», к той сложной трансформации внутреннего мира таких героев, как Мос (по прозвищу Куапце) и хаджи Калоков. Революция, новая социальная жизнь до предела обострили эти святые для них понятия, к тому же в тесной связи с мусульманской религиозной философией и с такими общечеловеческими понятиями, как гуманизм, добро и зло. Одно дело, что такие, как Чап, Хануко, Мишеост стремятся прикрывать свои неблаговидные дела, насилие, грабеж, убийства этим святым «адыгагъэ». Другое дело внутренние и открытые дискуссии и споры Моса Жуко и Хаджи Калокова по поводу адыгагъэ.
В начале их объединяли общность гуманных целей, стремление к равенству и справедливости, сохранению здоровых основ адыгагъэ. Но в выборе путей достижения этих целей они разошлись, их отношения усложнились. Хаджи в сущности ищет этой же справедливости, за которую борется Куапце, но хочет решить эту проблему в рамках религии, неписанных, но твердо устоявшихся законов «адыгэ хабзэ». Поэтому он придерживался девиза: адыг не должен идти против адыга. Исходя из этого, он ставит рядом на одну доску Моса Жуко и насильника и бандита Мишеоста. Обращаясь к Мосу, он говорит: «И ты адыг, и он адыг». Хаджи еще до конца не осмысливает, что они кровные, классовые враги.
Из авторской реплики понятно, что «Куапце сам до конца не понимал, какой будет новая власть.., но душой был открыт перед ней»11. Потому что она боролась за свободу, равенство, справедливость. В этом плане он ведет откровенный разговор с Калоковым, веря в его честность, разумность: «Мир меняется. Адыги всегда ценили человечность, а раз так, то новая власть не подавляет ее, а поднимает выше. Больше половины из нас не считались людьми, богатство было мерой человечности. Не богат — дурак, богат — умен, возвышен, с тобой считаются. Новая власть переворачивает все это...»11.
Мучительно больно, но и Хаджи пришел к выводу, что Чап и Мишеост пытаются прикрывать свои грязные и преступные дела этим священным адыгагъэ, хватаясь за него как за спасительную соломинку. Характерен в этом отношении разговор с Мишеостом, который, преследуемый органами власти, пришел к Хаджи, надеясь, что он спрячет его. Калоков, подозревавший Мишеоста в убийстве Моса, отказывает ему. В ответ Мишеост пытается укорять Хаджи: «Всю жизнь ты говоришь об адыгах... И я адыг, Хаджи!»11. Калоков заявляет ему прямо, что из-за таких насильников, как он, не будет обманывать ни власть, ни аул.., что ему пришлось пересмотреть свое отношение к таким людям, как Мишеост, Чап и им подобным.
Все эти проблемы еще более обостренно поставлены А. Евтыхом в романах «Баржа» и «Бычья кровь». Они более всего заметны, когда автор рисует образы старика Бачмиза Аладжа, считающего себя предводителем адыгского общества во всей округе, его сына офицера Мурзабека, генерала Хана Гирея и других.
Образы Гирея и Бачмиза интересны не только тем, что они, как и хаджи Исмель, стоят в эпицентре социального противостояния. Автор чаще всего раскрывает их через проявление в их действиях, поступках, размышлениях этнокультурного феномена адыгагъэ (адыгство) в условиях крутого перелома привычного уклада жизни, где они являлись хозяевами. Именно Гирей и Бачмиз больше всех обращаются к этим заповедям адыгской мудрости, когда хотят приспособить их к деяниям, которые часто несовместимы с «адыгагъэ». Этим они живо напоминают Шалаховых — отца Ибрагима и сына Хатажука из дилогии «Шуба из двенадцати овчин».
Именно в этом контексте наиболее полно проявляется психологический срез характера Гирея как личности. Да, он белогвардейский генерал, люто ненавидящий большевиков и делающий все для их уничтожения. Но он и одаренный человек, собирающий под свои знамена немало людей, создавший «дикую дивизию». Он умеет анализировать сложную ситуацию, если нужно, приспосабливаться к ней или приспособить ее к себе, к своим целям, включая и адыгство.
В этой своей главной роли он самоуверен и коварен. Обговаривая вопросы подготовки войска с И. Щербиной, он заявляет: «Когда мы с вами все это наладим, увидите, у моего порога всю адыгскую поросль! Проситься в мои седла»12. Позже он будет ловко манипулировать понятиями этих молодых людей о чести и достоинстве адыга. Выступая перед ними, он сказал немало слов, которые задели бы самолюбие любого адыга, и в конце добавил: «У нас свое знамя, своя идея, и мы этому присягаем и, когда понадобится, настанет этот час, отдадим свою кровь, свою жизнь! Мы мужчины, и не всякие, мы — адыги! Мера нам и высота: мы адыги»12. Учитывая адыгскую ментальность той поры и святость тех заповедей, которыми оперировал Гирей, нетрудно предугадать последствия таких слов. Ему верили, и он делал многое, чтобы поверили. Кроме того, что не скупился на слова, каждый раз, возвращаясь в аул, делал небольшие подарки (точнее: подачки) старухам, старикам: халву, бублики, орехи, сахарные головки, спешил в мечеть.
Но он был столь же лицемерен, как и коварен и высокомерен. Выйдя к толпе, собравшейся в защиту своего предводителя хаджи Исмеля, пойманного его сподвижниками, он произносит речь, убедившую стариков: «Я — кто? — спросил он вдруг. Все притихли. — А тот, кто день и ночь печется о своем народе. Малого числа, но золотого сияния! Сам я что я значу, если не понимаю его мыслей, его чаяний? Каждым моим шагом управляете вы, и слушаюсь вас, отдаю по вашей воле приказание освободить Исмеля Малаха с разрешением вернуться ему домой и жить там мирной жизнью»13. А вслед за тачанкой, увезшей хаджи Исмеля, он посылает группу своих головорезов во главе с Мурзабеком Аладжем, которые убивают Исмеля и ни в чем неповинных его спутников. Всю вину за это злодеяние сваливает на жителей соседнего хутора Красный Кут.
Старый Аладж, считающий себя знатоком, толкователем и хранителем адыгэ хаб-зэ, чистым и честным перед богом и перед людьми, знал о кровавой задумке Гирея.
И уезжая к себе домой от Гирея, он также знал, что следом привезут мертвого Исме-ля и лицемерно думал, что будет хоронить его. Только Хатрак Баг, Дмитрий Марьян не дали ему это сделать, похоронив своего соратника со всеми почестями.
Для таких людей, как хаджи Исмель, Хатрак Баг адыгагъэ — это справедливость, национальная гордость, человечность, честь и совесть, мужское достоинство. Они много не философствуют по поводу адыгагъэ, а выполняют его заповеди, если даже им это стоит жизни. Вспомнить хотя бы начало первого романа «Баржа», когда Ха-трака Бага заставляли «ломать шапку», показав тем самым свое почтение высокому начальнику. Хатраку это стоило нескольких дней тюрьмы, но он знает как почитать заслужившего это человека, в этот свод не входит снимать шапку, шапка для адыга сродни голове.
Главная идея автора заключается в том, что адыгагъэ — это высокая нравственность и никакие преступления, унижение человеческого достоинства, осквернение женщины, воровство, хищения, насилие и другие неблаговидные дела не могут и не должны прикрываться и оправдываться этим святым понятием национального этикета. Все это наносит огромный урон нравственному здоровью общества.
В последней посмертно изданной книге «Разрыв сердца», состоящей из двух повестей — «Сожжённая картина» и «Я — кенгуру», А. Евтых вновь обращается к некоторым щепетильным сторонам морально-нравственной жизни адыгов, особенно к отношениям между мужчиной и женщиной, мужем и женой. В первой повести это связано с деяниями художников Бзекуха Хамзата Чирашевича и Галима Кеша. У Бзекуха неодолимое желание нарисовать голую женщину и показать красоту женского тела.
Адыги понимали и ценили красоту девушки, женщины. Но как и все горские народы, не выставляли напоказ это свое понимание, не подчеркивали интимносексуальную сторону своей жизни. Открытое тело женщины, даже мужчины перед женщиной было каким-то национально-заповедным, и во все это народ вкладывал свой воспитательный смысл. Даже национальный костюм — наша гордость и сегодня — скроен таким образом, что он закрывает все тело, обнажая только лицо. Это не прихоть одного или десятков, не делается по указанию сверху или старейшины рода. Некоторые традиции, обычаи, элементы национальной традиционной культуры могут не вписаться в более общие понятия и оценки. Но может ли национальный художник быть абсолютно свободным от всего этого? Конечно же, бывалый, опытный художник Хамзат Чирашевич понимал, что обнаженное тело женщины вызовет острую неприязнь адыгского общества. Тем не менее осуществил свою давнюю мечту, но сердце не выдержало острую внутреннюю борьбу чувств, и умер он у сожженной картины.
Об открытости, гласности, общественном достоянии взаимоотношений между мужем и женой заставляют думать и некоторые страницы второй повести «Я — кенгуру», носящей чисто автобиографический характер. Через все повествование проходит одна сквозная линия, которая связана с Валентиной Косинской — женой и верной спутницей, с которой прожил более 6о лет, и ушла она из жизни на год раньше, чем он. А. Евтых воссоздает ее образ, черты ее характера, доброту и человечность, заботливое отношение к родным, близким, друзьям, умение находить общий язык со всеми. Таких деталей, постоянно возвращающих читателя к Вале, немало. И каждый раз ласковые слова: «Моя Валя..., моя маленькая Валя.., нежное, светлое, утонченное создание.., милая, прекрасная женщина» и т. д.
Восхищаясь глубиной и красотой этих чувств, мастерством их передачи, задаешься вопросом: что заставило его на склоне лет, на исходе жизни вот так эмоциональновзволнованно, открыто, оголенно писать об этом глубоко внутреннем, сугубо личном, интимном, относящемся только к ним обоим и выражавшимся в течение всей жизни только намеком, взглядом, настроением, заботой друг о друге, увлечением одним и тем же делом? Не сродни ли все это с тем, над чем бился художник Бзекух в «Сожженной картине»?
Все это непраздные вопросы. А. Евтых хорошо знал выработанные тысячелетиями нормы бытовой и нравственной жизни адыгов, их обычаи и традиции. В редкой его книге они не стали предметом пристального, острого внимания. Многие из них прошли определенную трансформацию, особенно -начиная с конца прошлого века, большое влияние оказала так называемая массовая культура, что заставляет серьезно задумываться над проблемами модернизации культуры, особенно духовной.
Возвращаясь к вопросу о том, что все-таки заставило автора переходить через все эти условности, возможно стоит обратиться к фразе, в сердцах им сказанной: «Я был счастлив в жизни — и шло это от Вали»14. Может быть. А в целом трудно дать однозначный ответ на все эти вопросы. Это один из характерных признаков сложной, иногда противоречивой художнической натуры Аскера Евтыха.
Есть в его воспоминаниях и другие места — иногда мимоходом оброненная фраза, а нередко его раздумья по поводу тех или иных фактов и явлений, которые явно тянут на дискуссию, на размышления. По поводу одного факта он может обобщить: «И хорошо знаю по себе, по другим: мы, адыги, вовсе не трудоголики...»14. Или такая реплика: «Когда задумываюсь над нашими национальными проблемами, мучает меня опять же наша национальная черта: мы великие ленивцы, у нас нет опыта и традиций напряженной интеллектуальной жизни, а то, что было, все шло к нам через кунацкие или через религиозные собрания, иного общения не было.»14. Конечно же, в условиях отсутствия письменности интеллектуальный, умственный труд не мог быть профессиональным занятием. Но были же и великие мыслители, и великие мастера, было и общение, многого стоили и целые своеобразные институты-хачещи, существовали и другие формы общения: хасэ, игрища и т. д. Сам же автор, опровергая себя, на тех же страницах пишет: «А еще адыги умудрялись во всех доступных местах, в долинах, на равнинах, на горных откосах, в самих лесах насадить, вырастить своим неустанным беспрерывным уходом и яблоки, и черешни, и сливы, и каштаны, и тот же знаменитый орешник.»14, «глаза его (адыга — Р. М.) обращены к земле, вспахать, засеять.»14, «интеллигентные по духу и мышлению, — садовод ли, бахчевик, виноградарь или чеботарь, среди таких людей. очень много интеллигентных людей.»14.
В оценке его воспоминаний можно уйти от всех этих, казалось бы, мелочей. Но все они часть духовно-эстетической жизни писателя, выражают его симпатии и антипатии, его взгляды на прошлое и настоящее. Словом, из всего этого и вырастает образ, характер самого Аскера Евтыха — человека, героя и повествователя.
Литература
1.Литературный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — С. 752.
2.Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. — Нальчик, 1999. — С. 96.
3.Ханаху РА. Традиционная культура Северного Кавказа: вызовы времени. — Ростов-на-Дону, 2011. — С. 192.
4.Бекизова Л А. Литература в потоке времени. — Черкесск, 2008. — С. 28-29.
5.Тимижев Х.Т. Историческая поэтика и стилевые особенности литературы адыгского зарубежья. — Нальчик, 2006. — С. 69-70.
6.Отаров Н.Т. Твоя родина // «Новый мир». — №5, 1956. — С.125.
7.БучисА. Над картой критики // «Дружба народов». — №63, 1967. — С. 243.
8.Кешоков А. Облик улицы // Собрание сочинений. В 4-х томах. — Т. 3. — М., 1981. — С.588.
9.Мэрэтыкъо М. Тишэн-хабзэхэр игупшысэ шьхьа1эх // Гъэз. «Социалистическэ Адыгей», июным и 19 1990-рэ ильэс.
10.Шъхьэлэхъо А. Зэ[ук[эгьухэр, гукъэк[ыжьхэр // Гьэз. «Адыгэ макъ», сентябрэм и23-рэ 1995-рэ ильэс.
11.ЕутыхА. Ц1ыфым илъэуж. — Мыекьуапэ, 1971. — Н. 152, 185.
12.Евтых А. Баржа. — М., 1983. — С. 57, 224.
13.Евтых А. Бычья кровь. — Майкоп, 1993. — С. 265.
14.Евтых А. Разрыв сердца. — М., 2000. — С. 153.
Мамий Р.Г.